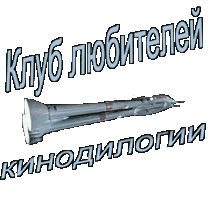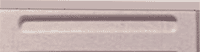Воспоминания о Ричарде Викторове
Для того, кто родился в год запуска первого спутника и рос под общее восхищение новыми достижениями СССР в космосе, интерес и увлечение космосом вполне закономерны. Я с детства полюбил фантастику – только отечественную, зарубежная (кроме, разве что, Лема) казалась слишком мрачной. Однажды специально уговорил маму съездить в Калугу – в музей истории космонавтики, это был 1971 год, мне было 14.
К нам в класс как-то зашла женщина с киностудии, посмотрела на всех, вызвала моего соседа по парте. Через некоторое время он вернулся с бумажкой – приглашением на пробы. На этой бумажке я и прочёл впервые название «Москва-Кассиопея». Моего соседа не выбрали, а название я запомнил...
Выхода фильма ждал с нетерпением. 20-е числа сентября 1974 года. Посмотрев, был потрясён. Ехал домой троллейбусом – были тогда такие длинные сочленённые СВАРЗ, с голубоватым люминесцентным освещением. На улице уже темно... и троллейбус казался мне коридором звездолёта...
На следующий день пошёл смотреть снова. Со второй серией было аналогично. Дилогия не сходила с экранов много лет, почти в любое воскресенье в Москве можно было найти 2-3 кинотеатра, где «Кассиопею» или «Отроков» показывали на утреннем сеансе. Так что всего я посмотрел эти фильмы не меньше 50 раз, давно сбился со счёта.
Меня впечатлила естественность характеров героев. Себя я увидел в Копаныгине, совпало буквально всё, от феноменальной памяти и способностей к технике до замкнутости и неумения общаться. Я представлял себя его дублёром, оставшимся на Земле.
Потом пересмотрел другие фильмы Р.Н.Викторова – «Переходный возраст», «Переступи порог», позже – «Обелиск». Везде меня поражала и восхищала абсолютная достоверность характеров – даже эпизодических персонажей. Ничего лишнего, случайного или непродуманного, любая мелочь служит главной цели. Звук радио, едва слышный за кадром, лист газеты, мелькнувший в кадре на секунду, вроде бы посторонние события на заднем плане... Из довольно посредственной книги «Девочка и птицелёт» Викторов сумел сделать потрясающий фильм – перенеся действие из Киева в Волгоград и добавив тему памяти о войне, близкую ему с ранней юности. Вообще, если сравнивать фильмы Р.Н.Викторова с фильмами других авторов того времени на те же темы, нельзя не увидеть разницу: у Р.Н. действуют живые люди, даже можно легко представить себе, как тот или иной повёл бы себя в другой ситуации; а у других, как правило, плоские, «картонные» фигуры, положительные и отрицательные песонажи, а ситуации часто надуманные... И при этом в любой тогдашней сколько-нибудь обзорной статье о кино упоминали одни и те же фамилии и названия. Викторова – практически никогда. Слишком яркой индивидуальностью он был, не вписывался в систему.
Через несколько лет, сидя в очереди в фотомастерской, я случайно увидел старый номер «Советского экрана» (точнее, несколько страниц от него) со статьёй Р.Викторова «А зритель ждёт...» – о том, как трудно снимать фантастику в кино. Статью, разумеется, утащил себе. Написанное там меня опять-таки потрясло. На одном дыхании написал многостраничное письмо, адрес – почти «на деревню дедушке»: Москва, центральная киностудия имени М.Горького, Викторову Ричарду Николаевичу. Дошло! Я писал, что был бы счастлив хоть чем-нибудь ему помочь. Я был уверен: если Р.Н. действительно такой замечательный человек, каким я его себе представляю – он мне ответит. Я не ошибся. Вскоре пришло письмо – написанное от руки, но на официальном бланке киностудии (не потому что формально-официально, а потому что он понимал: в таком виде автограф будет для поклонника ценнее...): «Дорогой Валентин! Получил Ваше письмо и не могу на него не ответить. Хотя, конечно, суета сует заедает и работа над новым фильмом забирает всё время. Спасибо Вам за добрые слова в мой адрес. Но Вы пишете, что будете рады чем-нибудь мне помочь, а так как Вы химик, то я, с Вашего разрешения, не буду пренебрегать предложением и воспользуюсь им. (...)»

Как раз тогда он начинал работу над «Терниями». Пригласил меня на киностудию, подарил сценарий. Кое в чём я потом действительно помог: роза, растворяющаяся в луже – это моих рук дело. Ну и в массовке космопорта на пару секунд я себя вижу.
Несколько раз бывал на съёмках – в Шереметьеве-2 (космопорт), в подвалах Солянки (подземелья Дессы), на студии (звездолёт). С огромным интересом наблюдал за съёмками: сначала несколько раз репетировали сцену, если что-то не получалось – Ричард Николаевич обнимал актёра за плечи (иногда – отводя чуть в сторону) и что-то негромко объяснял. В космопорту Нийя с отчаянием смотрит вслед уходящему экипажу «Астры» – Р.Н. перед этим сказал Е.Метёлкиной: «Лена! Они уходят!» – и все, кто был рядом, сразу прочувствовали всю глубину трагизма... Хорошо знакомым актёрам, снимавшимся и в других его фильмах, Ричард Николаевич позволял импровизировать на репетициях и кинопробах, а иногда и на съёмке не сразу командовал «стоп!» по окончании эпизода – ему было интересно, что они будут говорить и делать дальше. На одной из проб снималась сцена прихода Ракана к Туранчоксу, И.Ледогоров добавлял к словам из сценария «комментарии от себя», а Р.Н. добавлял от себя за Туранчокса. Примерно так: «Я прошу тебя не мешать землянам!» – «Ах, как смело ты заговорил, мой старый друг! Ты думаешь, земляне тебя защитят? (Если бы ты читал газеты, ты бы знал, что народ недоволен землянами.)» – «(А если бы ты слушал радио, ты бы знал:) час назад кончилось заседание правительства, мы решили ввести чрезвычайное положение!» – (...) – «А помнишь, как мы сидели тут два года назад? Тогда ты мне не угрожал! (Рубль брал взаймы?!)» – «Времена изменились!» – «Изменились, но не настолько, как тебе кажется! (Рубль-то отдавать надо!)»
Коля Викторов тогда заканчивал школу, с химией у него было совсем плохо, я с ним занимался. Бесплатно, просто ради того, чтобы бывать у них дома. После занятий меня приглашали поужинать вместе со всеми, можно было поговорить с Ричардом Николаевичем и Надеждой Мефодьевной – я был счастлив, узнавая массу интересного.
После «Москвы-Кассиопеи» даже космонавты спрашивали Викторова, где он взял настоящую невесомость. А после выхода «Терний» тогдашний Главный Конструктор (сейчас, наверное, его имя уже известно) обязал всех своих подчинённых посмотреть фильм и сделать для себя выводы... А когда я как-то прямо спросил Ричарда Николаевича, что же находилось за дверью с надписью «До 16 лет не входить», он, загадочно улыбнувшись, ответил: «Не знаю...»
Сейчас для большинства зрителей творчество Р.Н.Викторова – это, прежде всего, фантастика. А ведь он поначалу и не собирался этим заниматься. Когда ему в Госкино предложили «Москву-Кассиопею», пообещав, что после этого он сможет снимать, что захочет, он ответил: «Да это же негодный сценарий!» По его словам, «там чуть ли не тачанки с пулемётами по воздуху летали» и к Кассиопее летел чуть ли не целый пионерский отряд с горнами и барабанами. Так что Ричард Николаевич переделал очень многое. И Надежда Мефодьевна справедливо говорила, что режиссерский сценарий полностью делал Викторов, и она считает автором – его.
Человек, поверхностно знакомый с Ричардом Николаевичем, скажет, что он был очень вежливым. Это так, но не совсем точно: вежливость бывает и холодно-официальная. А в разговоре с Р.Н. всегда чувствовалась искренность и душевная теплота – независимо от того, с кем он говорил. Удивительно тёплая интонация в голосе. Я как-то сразу перенял у него манеру начинать телефонный разговор, до сих пор, беря трубку, говорю: «Я слушаю» его голосом. Как бы он ни был занят, он всегда находил хоть несколько секунд, чтобы спросить о делах и проблемах – не потому что так полагается, а потому что ему действительно было интересно. Когда я сказал, что защитил диплом, он ответил: «Это прекрасно. Надо пить водку».
Он никогда не использовал грубых слов, никогда не повышал голос. Если дочь Аня (в то время студентка) или кто-то из группы что-то делал не так – Р.Н. лишь говорил с неподражаемой интонацией: «Ну, это очень плохо». И любой, кто это слышал, сразу понимал, что это действительно очень плохо, так что провинившемуся надо немедленно провалиться сквозь землю от стыда, но лучше – постараться всё исправить.
При встрече со знакомыми или в начале телефонного разговора спрашивал: «Что плохого?» Ну да, хорошим человек и так поделится, а вот проблемы многие держат в себе, и помощи попросить стесняются – возможно, кому-то такой вопрос хотя бы поможет выговориться; а кому-то можно будет тактично предложить помощь. Потом эту фразу, с той же интонацией, Кир Булычёв вложил в уста симпатичного персонажа в мультфильме «Тайна третьей планеты».
Р.Н. был удивительно тактичен, даже по отношению к бестактным людям. Как-то на съёмочную площадку проник какой-то празднолюбопытствующий тип (возможно, из местных, знал какой-то проход, который забыли перекрыть). Долго выспрашивал, что за фильм снимают, о чём и т.д. – у самого Викторова, отвлекая его от работы. И Р.Н. терпеливо и внешне спокойно объяснял, что к чему. Зевака даже не подозревал, что фильм может быть самостоятельным произведением, а не экранизацией книги. Через какое-то время терпение кончилось не у Викторова, а у ассистентов, и любопытного выпроводили – аккуратно, без применения силы и грубых слов. А однажды творческий вечер Р.Н.Викторова пришёлся на 28 мая, в зале оказалось много пограничников, явно не вполне понимающих, куда они попали. Впрочем, вели они себя культурно – вот только в конце вечера кто-то задал глупый вопрос: «А будете ли Вы снимать фильмы о пограничниках?» Ричард Николаевич ответил в том духе, что раздумывает, выбирает, так что вполне возможно...
Многие люди из его киногруппы работали вместе с ним подолгу, некоторые – лет по 20, еще начиная с «Беларусьфильма». Его было невозможно не любить. А вот начальство относилось к нему весьма прохладно, он был «неудобен», поскольку самостоятелен. Делал не то, что велели сверху, а то, что подсказывала совесть, занимался делом, а не саморекламой и не поддержанием «полезных связей». Характерный случай, в котором всё это отразилось: во время съёмок в павильон к Викторову явился представитель администрации с требованием отдать привычную, «хорошо пристрелянную» кинокамеру какому-то другому режиссёру, для «более важной работы», взамен давали камеру со склада – которую наверняка пришлось бы долго настраивать, а то и ремонтировать. Все, кто был в павильоне, не сговариваясь, молча подошли и встали полукругом, отгородив собой Ричарда Николаевича от незваного гостя, всячески показывая тому, насколько он здесь нежелателен. Я, повинуясь общему порыву, тоже молча встал в эту шеренгу, ощущая душевное единство. Незваный гость, чертыхаясь, ушёл ни с чем.
Его фильмы знали все, но его имя не было на слуху, призов на фестивалях он получал меньше, чем заслуживал. Кадры и музыка из фильмов растаскивались без упоминания авторства. В видовом фильме, появившемся к московской Олимпиаде, вид Москвы с вертолёта был показан под увертюру из «Москвы-Кассиопеи». А сам Ричард Николаевич как-то упоминал, что видел по ТВ какой-то политический сюжет, где израильские танки наступали под звуки «зова роботов».
Он не был обласкан властью и киноначальством, потому что не хотел и не мог играть по их правилам. Ричард Николаевич был человеком кристально честным, не терпящим несправедливости. Всё принимал близко к сердцу и работал на совесть, с напряжением всех сил, не щадя себя. Такие люди не живут долго, но только они создают по-настоящему гениальные произведения...
Он смотрел далеко в будущее, предвидел то, о чём люди тогда еще не задумывались. Вот рецепт «осчастливливания» от роботов-вершителей: тяжёлую работу людям делать уже не надо, для этого есть роботы-исполнители (случайно ли у них чёрный цвет?), теперь следует освободить людей от склонности к переживаниям, к творчеству, от чувства ответственности, заботы о других, от склонности к состраданию, совести... и такое общество неизбежно обречено на вымирание. Это задумано и снято в 1972-73 годах, задолго до того, как прозвучал слоган «Бери от жизни всё!» А сейчас посмотрите: Нидерланды – это уже Вариана за 200 лет до прилёта «Зари», пункты осчастливливания повсюду; Дания, Германия и США быстро движутся в ту же сторону... а ведь землянам на помощь от инопланетян рассчитывать не приходится. А серьёзнейшие проблемы экологии: загрязнение природы, разрушение озонового слоя, глобальное потепление – ведь обо всём этом прямо сказано в «Терниях», а это 1979-80 год!
Ричард Викторов, сгорая сам, светил другим (простите за избитую фразу)... Инсульт. Но сдаваться он не собирался.
Моей жене (на тот момент еще будущей) знакомые не советовали смотреть «Тернии», говорили – фильм не для слабонервных. Но я-то знаю, что это не так! Тогда фильм шёл в небольшом кинотеатре «Огонёк» на проспекте Мира. Разумеется, «Тернии» произвели на Свету огромное впечатление, с нервами всё нормально. Викторов умел, ничего не смягчая, показывать проблемы и трагедии – и при этом не вгонять зрителей в депрессию, а наоборот, придавать уверенности... Мы вышли из кинотеатра, и я вдруг подумал: так ведь дом Ричарда Николаевича совсем рядом! Подумали: если он в больнице или санатории, если не увидим его, то хоть у дежурной в подъезде спросим, как и что.
Нам повезло: Надежда Мефодьевна открыла дверь, мы поздоровались и осторожно спросили. Она пригласила нас войти. Ричард Николаевич сидел на балконе, разрабатывал руку, сжимая маленький мячик. Он был рад, что мы навестили его. Обычным негромким голосом, после полагающейся фразы о самочувствии, стал говорить о своих планах. Сказал, что после «Кометы» хочет взяться за экранизацию «Лезвия бритвы». И с задумчивой грустью произнёс: «Вся наша жизнь – на лезвии бритвы...» У меня слёзы подступили к глазам. Лишь выйдя на улицу, я сказал жене: «Как же плохо он выглядит!» Сердце сжалось от тяжёлого предчувствия. Это было 31 августа 1983 года...
А вечером 8 сентября мне позвонила Анастасия Александровна Купцова, ассистент, я ей высказывал идеи по поводу биомассы, говорил, что надо закупить для съёмок, она организовывала ту съёмку, где я розу растворял...
На церемонии прощания, когда я стоял в почётном карауле у гроба, к Надежде Мефодьевне кто-то подошёл с соболезнованиями. Она тому человеку что-то говорила, потом подняла на меня заплаканные глаза и спросила: «Ты сколько раз фильм смотрел?» И после моего ответа сказала тому что-то вроде: ну вот видите...
Дочь, родившуюся в 1985-м, мы назвали Нийей. Родился бы сын – назвали бы Ричардом.
Фотография Ричарда Николаевича висит у меня над столом уже четверть века.
Валентин Мельников (2007)
|